Веркор - Избранное [Молчание моря. Люди или животные? Сильва. Плот "Медузы"]
Я без обиняков повторил ему все, что мне высказал дед, и стал ждать, что он на это ответит. Все с той же усмешечкой в глазах он долго намазывал на хлеб печеночный паштет. Потом положил бутерброд на тарелку. „Да, старина, в хорошенький ты попал переплет“. Начало мне не понравилось. Я возразил: „Не лезь не в свое дело. Речь не обо мне, а о тебе. Отвечай же, черт тебя возьми. Прав дед или нет — моя книга на самом деле тебе повредит?“ „Возможно, ну и что из того?“ И в тоне все то же невероятное, несносное благодушие. Но он почувствовал, что перегнул палку. Он прикрыл мою руку своей. „Послушай, старина, давай условимся: в чем, как говорится, суть? Отвлечемся на минуту от нас обоих. Вспомним типа, которого ты любишь — я знаю, что любишь, это сразу чувствуется, — вспомним, к примеру. Рембо. У него тоже была семья. Что ты о ней думаешь?“ Я сделал нетерпеливое движение, но он крепче стиснул мне руку и продолжал: „Я не шучу. Его семья сделала все от нее зависящее, чтобы его скандальные стихи не вышли. И конечно, опубликовав их, молодой Рембо нанес чувствительный урон репутации своих близких в жадном до сплетен родном Шарлевилле. Так должны ли мы осуждать Рембо и сокрушаться, что его семья не поставила на своем? — (Я не был уверен, что правильно понял смысл его слов. Он угадал это по моему выражению.) — Согласись, что все зависит от точки зрения. С точки зрения светской и семейной, несомненно, он заслуживает самого сурового осуждения. Ну а с высшей точки зрения — а? С точки зрения поэзии?“ — „Не хочешь же ты сказать…“ — „Хочу, старина, на мой взгляд, твои стихи не хуже стихов Рембо. Вот как обстоит дело, дружище. А посему, — закончил он в ту минуту, когда нам подали антрекоты, — не рассчитывай, что я присоединюсь к остальным членам семейства Провен, пытаясь заставить тебя отказаться от публикации“. „Даже если это тебе повредит?“ — „Даже если это может мне повредить“.
Но я покачал головой, откинулся на спинку стула, отложил в сторону вилку и нож и сказал: „Я не стану печатать книгу“».
При этих словах он посмотрел на меня, и в глазах у него вспыхнул странный огонек, и веки прищурились не то заговорщически, не то вопросительно — не поймешь. Бровь вдруг перестала дергаться — тик словно бы переместился к маленькому сгустку плоти в уголке губ, к родинке, и теперь стала подергиваться она, точно именно под нею затаилась усмешка. А в глазах запрыгали уже откровенно смешливые огоньки.
«— Занятная штуковина, а? — человек и спокойствие его совести! Просто поразительно, как легко и радостно стало у меня на душе после этих слов! Все вопрос исчерпан. Злосчастная книга не увидит света! И я тут ни при чем, я ни от чего не отступился. И нечего мучить себя вопросом, на который я не знаю ответа: какое решение требует от меня большего мужества. Поскольку существует Реми, книгу опубликовать невозможно, и точка. Моя бунтарская душа должна запастись терпением до той минуты, когда она сможет проявить себя, выступив против загнивающего общества, олицетворяемого Провенами, в других областях — на поприще какой-нибудь активной деятельности, в политике. Мне стало так хорошо, что казалось, я готов хоть сейчас ввязаться в борьбу. Я чувствовал, что меня распирают силы. И в эту минуту я услышал: „Сдрейфил, старина!“ Реми указывал в мою сторону столовым ножом, почти дотрагиваясь до моей груди кончиком обвинительного лезвия. Он откровенно потешался надо мной. Надо полагать, мое лицо выдало мою живейшую радость. Но представляете, каким ушатом холодной воды он меня окатил!»
Он помахал рукой жестом озорного мальчишки. А глаза искрились мягкой усмешкой и юмором, которые, несомненно, и составляют очарование его улыбки.
«— Какой ушат холодной воды он на меня вылил! Конечно, я сдрейфил и пошел на попятную. Едва представился удобный предлог. Вдобавок позволивший мне сыграть благородную роль. Должно быть, у меня вытянулось лицо. В продолжение нескольких секунд Реми смотрел на меня, все так же беззвучно смеясь, потом убрал свой нож и начал резать мясо. „Давай обсудим, сказал он. — Самое главное — выяснить, ради кого и ради чего ты хочешь опубликовать свою книгу. Если только ради себя самого, ради собственной ничтожной душонки, во имя детской мстительности или из мелкого тщеславия и честолюбия, тогда и в самом деле стоп! Дед прав, потому что это маленькое свинство может обернуться большой гнусностью. Но ведь у тебя другие причины — так я по крайней мере надеюсь. Если ты чувствуешь, как я, в такой же мере, как я, если ты чувствуешь, что ты всего лишь рупор, не больше, рупор гнева и правды, которые выражаются через тебя, которые захлестывают твою душонку, как гнев юного Рембо захлестывал жалкого и, судя по всему, довольно нечистоплотного торгаша, каким он впоследствии стал и который уже сидел в нем, тогда, дорогой мой великий поэт, ты не имеешь права, ни-ка-ко-го права преграждать путь этому гневу и правде. Слишком поздно — они уже не твои, они принадлежат тебе не больше, чем деду или мне. Шапки долой! А теперь поговорим о нас обоих. Тут надо поставить точки над „і“. В наши годы уже непозволительно делать глупости и идти по ложному пути. Сначала о тебе. Со мной дело проще. Общество, в котором я существую и которому, поверь, знаю цену — ты этого не поймешь, но тем не менее это факт, — мне оно не мешает. Я свободен, его вонючие дерьмовые цени меня не стесняют, поэтому я не испытываю потребности их сокрушать. А вот ты, братец, дело другое, совсем другое. Если ты не разорвешь эти цепи, которые не без оснований оскорбили твое чувствительное обоняние, если ты их не разорвешь, что ж, я скажу тебе напрямик — тебе крышка. Он больше не смеялся, даже не улыбался, он серьезно смотрел мне прямо в глаза. — Если ты сейчас сдрейфишь и не опубликуешь книгу, говорю тебе: не успеет трижды пропеть петух, как ты вернешься с повинной в лоно семьи“.
Это было уж слишком! „Но ведь ты сам, закричал я, — ты сам еще два месяца назад приходил уговаривать меня, чтобы я явился с повинной. Что, разве не так?“ — „Так, — ответил он. Несколько мгновений он разглядывал свою вилку, точно между ее зубцами надеялся найти объяснение этой перемене. Так. И я считал, что поступаю правильно. Очевидно, потому, что еще не разобрался тогда во всей твоей истории. Но зато с тех пор я много думал о тебе. И решил, что ты прав. Да, правда была на твоей стороне, хотя, наверное, ты сам не вполне понимал и теперь не понимаешь, в чем тут дело. Но в одном я отныне полностью убежден: в семью тебе возвращаться ни в коем случае нельзя. Объясню почему: в тебе есть один изъян — ты боишься жизни“. Мне хотелось ответить с иронией: „Скажи на милость, как ты до этого додумался!“ Но я был настолько потрясен, что не решался поднять на него глаза, чтобы он не прочел в них, насколько он оказался проницательным. „К счастью — сказал он, — да, к счастью, тебе стыдно, что ты боишься, и порой, когда ты уже готов отступить, этот стыд заставляет тебя держаться. Впрочем, это одна из форм мужества, и, может быть, вызывающая наибольшее уважение, а этого мужества тебе не занимать стать, ты это доказал, теперь на очереди — взрастить некоего Фредерика Леграна, который так и жаждет расцвести, но ему нужна для этого благоприятная почва, а для тебя эту почву составляют гнев, возмущение, нежелание примириться с существующим порядком вещей, а что порядок дрянной — это точно. Для меня, понимаешь ли, для меня наиболее благотворная почва — это, пожалуй, терпимость. Я извлекаю свои жизненные соки из чувства терпимости. Поэтому на меня семейная обстановка не оказывает губительного влияния. А на тебя оказывает и будет оказывать. Ты хочешь чего-то добиться в жизни? Тогда ты прав: надо перерубить якорные цепи, перерезать пуповину. Причем так, как ты начал: одним ударом сабли“. Он взмахнул рукой, а у меня слегка сжалось сердце, и я невольно вспомнил о том „Руби!“, которое мне уже так дорого обошлось, — неужели надо начинать все сначала? Мне стыдно, мне страшно, что я боюсь… да, он прав, во мне, как и во многих других, этот второй страх пересиливает первый. А он продолжал: „Со вчерашнего дня, с тех пор как объявлено о выходе твоей книги, я взвесил все, подумал о деде, о наших отцах, о тебе и обо мне. И о скандале. Разберемся. Старик В. П., твой отец и мой будут брызгать ядовитой слюной, пока скандал будет в центре внимания газет. Но дед сказал правильно: их будущее уже у них за плечами, стало быть, в их жизни ничего не изменится. Ну, переживут несколько неприятных минут, а потом шумиха кончится, начнется какая-нибудь другая — клин вышибают клином. Остаемся мы с тобой. Очень мило с твоей стороны, что ты беспокоишься о моей карьере, да и дед трогателен со своими заботами о „видных должностях“. Но одного он не знает — только это между нами, потому что старики захворают с горя, если пронюхают о моих планах: их „видные должности“ нужны мне как собаке пятая нога. По крайней мере в данное время. Прежде всего я хочу пошататься по свету. Послужить в колониальных конторах — в Маэ, Чандранагаре, в Ханое, на Мадагаскаре… Они мечтали бы, чтобы я завтра же стал управляющим Французского банка или, если без шуток, директором какого-нибудь банка поменьше. И навсегда окопался в Париже. А это совершенно не по мне. Пока я молод, хочу посмотреть мир. На первых порах поездить по колониям. Что будет, если меня опередят слухи о скандале? Но, во-первых, колонии далеко, а во-вторых, чем-чем, а скандалом в тропиках никого не удивишь… Об этом не стоит и говорить. К тому времени, когда я вернусь сюда, чтобы сделать, как говорят старики, достойную меня карьеру, утечет много воды, верно? Видишь, я говорю с тобой начистоту. С моей стороны тут нет и намека на жертву, нет даже намека на намек. Остаешься ты — только ты. А тебе, старина, я уже сказал: отступись ты, тебя простят, и ты вернешься в родительские объятья, тебя в них задушат в полном смысле этого слова, и ты станешь самым заурядным ничтожеством. Но если твоя книга выйдет, ты заживешь настоящей жизнью: с одной стороны, тебя будут восхвалять, с другой травить. Тебе придется отбиваться, воевать, нападать, кусаться, а гнев и ярость — это именно то, что тебе необходимо, чтобы преодолеть слабинку и сделаться настоящим человеком. Вот, старина, каковы дела. Набей этим свою трубку и выкури ее, как говорят англичане, или по-нашему: намотай себе на ус“».


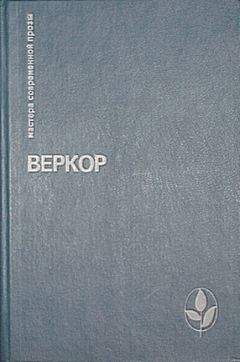
![Веркор - Люди или животные? [Естественные животные]](/uploads/posts/books/117740/117740.jpg)